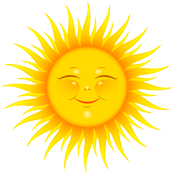из интервью с Лукой Гуаданьино (в честь выхода Суспирии на экраны к/т):
Лука Гуаданьино«Я не могу работать с актерами, которые не возбуждают»
Режиссер новой «Суспирии» — о власти злых женщин, Тильде Суинтон, зиме без отопления и историческом контексте своего фильма.
27 ноября 2018
... Мне нравится радикально менять жанр и тему, экспериментировать, в том числе и со своими собственными иллюзиями и представлениями. Повторяться было бы скучно. Однако неверно считать, что «Суспирия» и «Назови меня своим именем», например, совершенно не похожи. Ведь у той и другой ленты один и тот же режиссер. Может быть, в картине «Назови меня своим именем» я показал женщин жертвами, а в «Суспирии» жертвами стали мужчины, однако подход к героям у меня один и тот же: я не могу работать с актерами, которые меня сексуально не возбуждают. Это вдохновляет и вызывает желание их соблазнить, а потом покинуть.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ:
Скрытый текст
В прокат выходит вольный ремейк новаторского джалло Дарио Ардженто, ставшего классикой страшного кино. Версия Луки Гуаданьино придерживается общей фабулы первоисточника (загадочные убийства в немецкой балетной школе, куда приезжает на учебу молодая американка в исполнении Дакоты Джонсон), но переносят действие из Баварии в Западный Берлин, добавляя в него танцевальные номера и мрак.
КиноПоиск поговорил с режиссером о смысле такой радикальной смены локаций и настроения картины.
— Как вы пришли к «Суспирии»?
— О «Суспирии» я впервые услышал в 10 лет. Родители отправили меня в летний лагерь на север Италии. Коллективные сборы всегда причиняли мне огромные страдания. Я рос застенчивым и тихим ребенком. Пока мои ровесники бегали по дворам и играли в футбол, я предпочитал забиться в какой-нибудь угол с книгой в руках. Меня интересовали мистические, грустные, болезненные истории. Я обожал кино. На стене заброшенного провинциального кинотеатра недалеко от лагеря я увидел плакат «Суспирии». Тогда я не понял значения этого слова, даже не знал, что оно латинское. Но каждый день, когда я проходил мимо кинотеатра, плакат вызывал во мне странные эмоции.
Фильм Ардженто мне удалось посмотреть лишь несколько лет спустя, когда его транслировали по местному телевидению. Помню, как перед родителями притворился больным, чтобы не выходить на ужин. Заперся у себя в комнате и провел вечер за телевизором. С тех пор я считал себя большим поклонником Дарио Ардженто, даже не мечтая о том, что когда-нибудь назову его своим другом. Помню, однажды моя мать сказала мне, что кто-то из соседей видел моего любимого режиссера в Палермо и что сейчас он ужинает в таком-то ресторане. Я побежал разыскивать этот ресторан, нашел режиссера, но подойти к нему не решился. Лишь простоял около ресторана, прильнув к его окнам, и ждал, пока Дарио закончит свой ужин. Мне тогда было всего 15.
— Вы купили права на «Суспирию» очень давно. Почему на реализацию проекта ушло 10 лет? Правда ли, что Ардженто не был согласен с ремейком?
— Процесс действительно затянулся. Просто я не чувствовал себя готовым к «Суспирии». Я перфекционист и прагматик, всегда просчитываю свои действия заранее. «Суспирия» была бы дорогим проектом. Начни я съемки раньше времени, я бы мог повредить своей карьере и распугать инвесторов.
А что касается Ардженто... Если бы Дарио не хотел, чтобы я снимал «Суспирию», он бы отказал мне в правах. А он дал мне свое благословение и доверил полный контроль над картиной. Несмотря на то, что он стоит у нас в титрах, на съемки он так ни разу не пришел и сценарий не читал. Вижу ваш скептический взгляд. (Ухмыляется.) Но это не то. Дарио уже успел посмотреть готовый результат и был доволен.
— Зачем вообще нужно было снимать ремейк?
— Я не считаю, что «Суспирия» является точной копией картины Ардженто. Это скорее дань уважения творчеству великого режиссера. Я бы назвал наши картины двоюродными сестрами, а не близнецами. Дарио снимал фильм в 1976 году. В его фильме американская студентка приезжает во Фрайбург, небольшой город на юге Германии, чтобы поступить в танцевальную школу. У меня сохранилась линия о приезжающей в Германию американке, но моя история происходит в разделенном холодной войной Берлине. Это было сложное и интересное время в европейской истории, период, когда была активной немецкая леворадикальная террористическая «Фракция Красной армии», когда новое поколение Германии было готово избавиться от чувства вины за грехи родителей.
Мне запомнилась рецензия на «Суспирию» Ардженто, написанная итальянцем Туллио Кечичем. Кечич утверждал в статье, что «ведьмы вернулись», апеллируя к движению феминизма и его агитационной пропаганде. Но фильм Ардженто был очень косвенно связан с идеями феминизма. Эту волну, охватившую Европу в 1970-х годах, скорее отражает мой проект. Меня заинтересовал дух времени, период так называемой немецкой осени, насыщенный событиями 1977 год, когда «Фракция Красной армии» похитила и убила промышленника Ханнса Мартина Шлейера, когда Народный фронт освобождения Палестины захватил самолет Lufthansa. Конечно, я посмотрел знаменитый фильм «Германия осенью». Большое влияние на меня также оказали дневники филолога Виктора Клемперера, которые были выпущены под названием «Язык Третьего рейха». После прихода к власти фашистов Клемперер вел дневники, отмечая в них изменения в повседневной жизни, преобразования в структуре языка, интонациях и лексике своих сограждан. Меня также заинтересовали труды Жака Лакана, особенно его теория «стадии зеркала».
— Но у вас в фильме речь идет не о мировой истории, а о тайном обществе!
— Разве Лев Толстой не говорил о взаимодействии судьбы одного-единственного человека с мировыми событиями, разве не подчеркивал он важность этого человека в свершении истории? Так и мне хотелось выяснить, как история народов может быть связана с существованием одного небольшого обособленного сообщества, как одно зло взаимодействует с другим. Знаете ли вы, с каких пор существуют ведьмы? Уверен, вы слышали про охоту на ведьм в Средневековье. Мне нравится думать, что присутствие в нашем мире смерти, одиночества и отчаяния является постоянным напоминанием о том, что зло живо и будет жить.
— И все-таки ваш фильм не о политике, а о танце...
— Ну, не хотелось бы, чтобы о нем так говорили, пусть в там и много танцуют. Я ведь попытался отойти от классического балета и углубиться в радикализм современного танца, краткого энергичного момента красоты в движении. Мне хотелось, чтобы он стал частью и сутью моих героев. Мне бы не хотелось, чтобы зритель сказал: «А, это фильм о танце!» — и приготовился к его механическому воздействию на свою психику. Я хочу, чтобы он заставил задуматься об истории, связи поколений, о воспитании. Хочу, чтобы женщины, посмотрев его, начали размышлять об отношениях со своими матерями, чтобы мужчины задумались над механизмами власти. В конце концов, я желаю, чтобы зритель увидел и понял власть женщин — сильных, мотивированных, мистических, тех, которые способны тревожить, совершать преступления и быть злыми. А в целом я мечтаю снимать такие фильмы, которые больше никогда не будут вызывать обсуждения вопросов пола, расы и национальности.
— «Суспирия» совершенно не похожа на ваши предыдущие работы. Не боитесь потерять зрителя?
— Фильм — живой и постоянно меняющийся организм. Как работает этот организм? Почему один фильм пользуется популярностью, а другой не пользуется? Для меня остается загадкой. Мне нравится радикально менять жанр и тему, экспериментировать, в том числе и со своими собственными иллюзиями и представлениями. Повторяться было бы скучно. Однако неверно считать, что «Суспирия» и «Назови меня своим именем», например, совершенно не похожи. Ведь у той и другой ленты один и тот же режиссер. Может быть, в картине «Назови меня своим именем» я показал женщин жертвами, а в «Суспирии» жертвами стали мужчины, однако подход к героям у меня один и тот же: я не могу работать с актерами, которые меня сексуально не возбуждают. Это вдохновляет и вызывает желание их соблазнить, а потом покинуть.
— Есть актрисы, которых вы так и не смогли покинуть. Например, Тильда Суинтон появляется в ваших фильмах с 1999 года.
— Да, после того как мы с Тильдой создали столько картин вместе, статус наших отношений поменялся. (Смеется.) Из любовников мы превратились в семейную пару. А в семье отношения работают по другим механизмам.
— Вы часто говорите, что снимаете американское по сути и форме, а не итальянское кино. Но некоторые ваши эксперименты явно не предназначены для широкого американского проката. Много секса или, как в «Суспирии», слишком много крови и насилия...
— Действительно, с героиней Елены Фокиной мы немного переборщили. (Смеется.) Крови в картине тоже хватает. Можно сказать, что у нас больше 50 оттенков красного, и нам подвозили кровь галлонами на съемки. Но ведь красный цвет — суть нашей истории; это не только результат физического насилия, но и символ политических и социальных изменений в стране. Возможно, наш красный имеет более зловещие ассоциации, чем, скажем, цвет туфелек для танца в знаменитом фильме Пауэлла и Прессбургера «Красные башмачки». Кстати, образ персонажа Суинтон, мадам Бланк, у нас во многом основан на образе их героя, одержимого хореографа Бориса Лермонтова. Во всяком случае, он и она разделяют идею мучительной смерти во имя искусства.
— С какими трудностями пришлось столкнуться на съемках?
— Часть картины мы снимали в Германии, однако над большей частью фильма мы работали на севере Италии. Например, интерьерные сцены и здание танцевальной академии мы снимали в заброшенном отеле в горах. Здание находилось в плачевном состоянии и требовало капитального ремонта. У него отсутствовали водопровод и канализация, не было электричества и отопления. Стены и потолки в некоторых местах обвалились, и нам пришлось удалять обломки и восстанавливать обстановку. Это место мы использовали не только для работы, но для жилья. Можете себе представить, что мы пережили в зимние холода. Думаю, наши страдания пошли на пользу гнетущей атмосфере фильма.
Автор
Татьяна Розенштайн источник